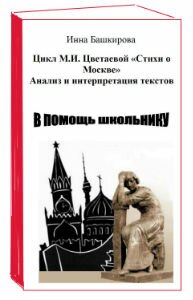«Чужбина, родина моя!»: Эмигрантский период жизни и творчества Марины Цветаевой: XI Mеждународная научно-тематическая конференция (Москва, 9–12 октября 2003 года): Сб. докл. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2004. – 562 с.
«Чужбина, родина моя!»: Эмигрантский период жизни и творчества Марины Цветаевой: XI Mеждународная научно-тематическая конференция (Москва, 9–12 октября 2003 года): Сб. докл. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2004. – 562 с.
В предисловии к сборнику отмечается, что по своей сути
«эмигрантское творчество Цветаевой отнюдь не является эмигрантским. Телеология его такова, что в нем, по большому счету, мало что нарушилось или изменилось со сменой «места производства». А это и есть качество, отличающее подлинную литературу пусть даже от самого трогательного и по-настоящему трагически звучащего «человеческого документа».
Статьи сборника посвящены рассмотрению этой темы в разных планах и ракурсах. Судя по содержанию, в них исследуются биографические вопросы, перекличка цветаевских мотивов с творчеством представителей разных стран и эпох, а также лингвистические аспекты, связанные с творчеством этого периода.
I
Е.И. Лубянникова. О благодарности: поэт и коммунист (к биографии И.С. Якубовича) 9
Н.А. Стенина. Чешское окружение М. Цветаевой 32
Е.И. Лубянникова. Марина Цветаева в Чехословакии. Хронотоп (1922–1925) 42
Л.В. Кутьёва. «Ты, меня любивший дольше времени…»: Марина Цветаева и Константин Родзевич 46
Т.Д. Исмагулова. Петербургский Арлекин – К.Б. Родзевич (неизвестные архивные материалы) 57
Е.А. Надеждина. «Чудовищная моя выносливость» (состояние здоровья членов семьи Цветаевой в эмигрантский период жизни) 67
Л.М. Шейн. О новых документах, связанных с А.С. Эфрон 75
II
Н.О. Осипова. Творчество М. Цветаевой в контексте эстетических исканий русской художественной эмиграции (В. Кандинский) 81
Е.К. Соболевская. Искусство и ответственность: М. Цветаева и М. Бахтин 95
Т.М. Геворкян. Тютчев на страницах цветаевской прозы 103
В.С. Баевский. М. Цветаева и Б. Пастернак в 1922–1923 годах 118
И.Б. Ничипоров. Лирическая сатира М. Цветаевой и В. Маяковского 125
Л.Ф. Кацис. Цветаева и Хармс: возможные параллели (К постановке проблемы) 140
С. Оссипов. Марина Цветаева и Евгений Замятин – два внутренних изгнанника 146
Г.З. Дюсембаева. М. Цветаева и В. Ходасевич в годы эмиграции (заметки к теме) 151
Ю.И. Бродовская. Марина Цветаева и «русский Монпарнас» (К постановке проблемы) 159
Л.Л. Кертман. «Нерушимое родство – одноколыбельники» (Перекличка мотивов в прозе Сергея Эфрона и Марины Цветаевой) 172
М.С. Лебедева. Правда бытия и художественный вымысел в произведениях Марины Цветаевой (Автобиографическая проза М. Цветаевой через призму «Воспоминаний» А.И. Цветаевой) 180
М.В. Цветкова. Поэзия Цветаевой 20-х гг. – «Улисс» Дж. Джойса (к вопросу о новаторстве М. Цветаевой в рамках европейского авангарда) 194
Т.А. Быстрова. Марина Цветаева и Микеланджело 203
М.-Л. Ботт. Шуберт в жизни и поэзии Марины Цветаевой (о некоторых стихотворениях М. Цветаевой, с оглядкой на Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака) 212
О.В. Калинина. Лирика – «стихия стиха»: М. Цветаева и «К морю» А. Пушкина (Тезисы) 239
III
О.Г. Ревзина. Парижские фельетоны Марины Цветаевой. «Страховка жизни» 241
А. Маймескулова. О цветаевской метонимии («Музей Александра III» и «Маяковскому») 259
Л.В. Зубова. Цикл Марины Цветаевой «Скифские» – послание Борису Пастернаку 265
О.А. Кириллова. 1923 год: «Провода» и другие метафоры разлуки 274
В.М. Хаимова. Переписка М. Цветаевой и Р.М. Рильке как творческая предыстория поэмы «Новогоднее» 280
Н.В. Крицкая. Поэма Марины Цветаевой «На красном коне»: некоторые аспекты лингвопоэтики 286
Г.Ч. Павловская. Код творчества в поэме М. Цветаевой «Мóлодец» 294
М. Смит. «Перекоп» М. Цветаевой: концепт идентичности в медитативной поэзии 302
М. Рэа. «Сивилла – младенцу»: метафизика эмиграции 310
Н.В. Черных. Семантическое поле творчества в идиолекте М.И. Цветаевой (на примере анализа словосочетания неизвлеченный шип в стихотворении «Леты подводный свет…») 315
А.В. Флоря. Опыт интерпретации стихотворения через призму персональности 321
А. Смит. Последнее стихотворение Марины Цветаевой как поэтическое завещание 324
Д.Д. Кумукова. Лейтмотив в трагедийном цикле М.И. Цветаевой «Тезей» 332
Т.Е. Барышникова. Об одном неосуществленном замысле М. Цветаевой 338
М.М. Полехина. Орфическая тема в поэзии Марины Цветаевой 343
IV
И.В. Кудрова. К истокам цветаевской экспрессии 349
М.В. Ляпон. Стратегия разрушителя стереотипа (парадоксы М. Цветаевой и И. Бродского) 356
Р.С. Войтехович. Цветаева как Elementargeist 366
С.Н. Лютова. Архетипы сафического эротизма в прозе М. Цветаевой (Земляника под древом познания) 389
К. Хаушильд. «Внецерковность» Цветаевой и тема ереси в некоторых ее произведениях 401
Л. Панн. «Еврейский текст» в цветаевской поэзии эмигрантского периода 409
И. Надь. Из наблюдений над языком М. Цветаевой (с точки зрения герменевтики) 416
В.А. Маслова. «Больше не весим, не дышим: слышим»: философия и поэтика безмолвия у М. Цветаевой 421
Н. Арлаускайте. Поэтика частного пространства Марины Цветаевой: пространство неповседневности 426
Л.Н. Козлова. «Гордыня, родина моя!» 432
Ю.А. Гаюрова. Православие Марины Цветаевой: ценностно-смысловая и потребностно-мотивационная доминанты православного мировоззрения в жизни и творчестве поэта (Тезисы) 439
V
Л.Л. Шестакова. Личные имена в рифмах Марины Цветаевой (По материалам словаря «Собственное имя в русской поэзии ХХ века») 441
Е.Ю. Муратова. Роль мифологических и библейских имен в поэтике Марины Цветаевой 454
К.Б. Жогина. Имя собственное Кармен в поэтическом идиостиле М.И. Цветаевой 463
С.А. Ахмадеева. Словесный импрессионизм М.И. Цветаевой (Сложные номинативы и атрибутивы с дефисным написанием, образованные при помощи наречий и слов с наречным значением, в прозе, письмах и записных книжках Марины Цветаевой) 476
Г.М. Колеватых. Специфика временных отношений в лирике М. Цветаевой (на материале творчества эмигрантского периода) 490
С.А. Миняева. Соматическая лексика в поэзии М.И. Цветаевой (книга «После России») 498
А.Г. Степанов. О семантике стихового переноса в неклассической поэзии (М. Цветаева и Б. Пастернак) 507
С.Ю. Артёмова. О коммуникации в посланиях М. Цветаевой эмигрантского периода 517
А.В. Прохорова. Индивидуально-авторское значение черного цвета в устойчивых словосочетаниях М. Цветаевой (Тезисы) 522
Р. Баффи. Об итальянских переводах произведений М. Цветаевой 523
Библиография работ о жизни и творчестве М. Цветаевой 527
«Веги – выходец…» И. Белякова 551
Остановимся на нескольких примерах.
Е.И. Лубянникова в статье «О благодарности: поэт и коммунист (к биографии И.С. Якубовича)» открывает новое имя, связанное с Цветаевой в существенно важном биографическом и личном плане. Решая вопросы с отъездом в эмиграцию, она сталкивалась с обстоятельствами, которые нередко оказывались непреодолимыми из-за сложности ее семейной ситуации. И тем более неожиданным стало заявление,
«что во мне, по словам одного коммуниста, “мелкобуржуазности меньше, чем в любом из нас”. – “А Вы знали хоть одного мелкобуржуазного поэта?” – ответила я. “Мелкобуржуазных нет, только феодальных”, – заявил коммунист – и выдал мне паспорт, – хотя прекрасно знал, что мой муж с самого первого дня был в Белой армии. // Я взяла с собой моего другого ребенка <…> и уехала”.
Имя коммуниста, выдавшего паспорт Цветаевой для выезда за рубеж, мы найдем в ее письмах к А.В. Бахраху: это – Игнатий Семенович Якубович. Трудно переоценить роль этого человека в судьбе поэта. Кто знает, как сложилась бы дальше жизнь Цветаевой, в том числе и творческая, останься она тогда на родине».
Автор восстанавливает линию отношений Цветаевой с Якубовичем, насколько это удается сделать по имеющимся данным.
«И.С. Якубович, судя по всему, до последнего дня курировал цветаевский отъезд. Даже в самый день отъезда, как вспоминает ее дочь, Цветаева с утра ходила в Наркоминдел».
И это кураторство сослужило еще одну добрую службу Цветаевой:
«По делам ли службы или по зову сердца оказался Якубович на Виндавском (ныне Рижском) вокзале, откуда отправлялся поезд, с которым уезжала Цветаева? О последней услуге, оказанной ей на родине коммунистом-доброхотом, она поведала в открытом письме к А.Н. Толстому, опубликованном в берлинской газете «Голос России» 7 июня 1922 г. В нем Цветаева, обвиняя писателя в политическом доносе на некоторых российских литераторов, поднимала важную этическую тему «круговой поруки человечности». Заканчивалось это письмо таким образом:
«За 5 минут до моего отъезда из России (11-го мая сего года) ко мне подходит человек: коммунист, шапочно-знакомый, знавший меня только по стихам.
– “С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего”.
Жму руку ему и не жму руки Вам».
Это было не только ее заочное рукопожатие, но и ее публичная благодарность человеку, снестись с которым непосредственно она уже не имела возможности».
В статье воссоздана и биография Якубовича. К предэмиграционному периоду жизни Цветаевой относятся те границы его жизни, когда
«Оставаясь на работе в Наркоминделе, он получил назначение заведующим отделом Центральной Европы; затем заведовал отделом Запада до осени 1922 г.»
Выясняется, однако, что знакомство Якубовича и Цветаевой состоялось еще раньше, в период гражданской войны. Об этом свидетельствует
«дневниковая проза Цветаевой «Ночевка в коммуне», где речь идет о коммунисте, которого Цветаева встретила у знакомых и который пригласил ее переночевать к себе в коммуну, поскольку ворота ее дома оказались запертыми».
Приведенный автором фрагмент убедительно свидетельствует, что речь идет именно о И. Якубовиче.
Судьба этого человека, подобно судьбе Цветаевой, сложилась трагически. Оба погибли с разницей в несколько месяцев. Их имена, благодаря розыскам исследователя, теперь навсегда связаны идеями благородства и человечности.
Статья Ю.И. Бродовской «Марина Цветаева и “русский Монпарнас” (К постановке проблемы)» посвящена теме отношений Цветаевой с молодым поколением русской литературной эмиграции, — той его части, которая получила название «парижской школы».
«Отзывы Цветаевой о парижской школе поражают своей резкостью, особенно если учесть ее неангажированность интересами какой бы то ни было литературной группы, важность для нее представления о «круговой поруке ремесла» …и свойственную ей вообще благожелательность к тем, кто избрал для себя трудный и столь, с ее точки зрения, неблагодарный в жизни путь поэтического творчества».
Этот парадокс ярко выражен в отношениях с лицами, определявшими тенденции развития эмигрантского литературного мира:
«Особенно неприязненны цветаевские характеристики Г. Адамовича, ведущего критика русской эмиграции и общепризнанного духовного наставника и лидера поэтической молодежи – который, надо признать, отвечал Цветаевой взаимностью.
Между тем, как ни странно, Цветаеву и Адамовича как «теоретиков литературы» кое-что объединяет. Это антириторическая позиция – непризнание автономной ценности формы художественного произведения, отрицание “литературщины” в литературе, интерес к непосредственному выражению живого переживания. Однако понимают эту антириторичность они принципиально по-разному».
Исследование разъясняет эту разницу и доказывает, что взаимная неприязнь имела объективные основания, так как
«творчество Цветаевой – как своей “формой”, так и “содержанием” – представляло собой полную противоположность всем декларируемым Адамовичем поэтическим принципам и не могло не вызывать у критика раздражения».
Автор раскрывает глубинные основы цветаевского отношения к искусству:
«В отличие от Адамовича, она вовсе не ставит искусству никаких формальных рамок. Форма, по ее мнению, “творится” “сутью”, более того, настоящий поэт, “не более чем секретарь” “высших сил”, слуга “стихий”, так же не властен в ее выборе, как и в выборе темы своего творения».
Причин для расхождения, при вглядывании в тему, оказывается немало:
«Еще одна важнейшая проблема, по которой проходит “демаркационная линия” между Цветаевой и парижской школой, – проблема соотношения искусства и жизни, фикционального и документального в литературе, т.е. пресловутого “человеческого документа”, поднятого на щит представителями парижской школы – и ставшего одним из основных объектов нападок ее оппонентов: В. Ходасевича, А. Бема, молодого В. Набокова (Сирина) и др.».
И здесь Цветаева, при сохранении внешней общности позиций, по сути исповедует принципиально иной подход к вопросу:
«Она, как и представители парижской школы, не скрывала неприязни к “бытовикам”, “дальнозорким” писателям “чеховского” типа, но отход от литературы подобного рода явно совершается ею и “монпарнасцами” в противоположных направлениях».
Ибо ее представления об искусстве устроены гораздо более сложным образом:
«Искусство, по Цветаевой, имморально и не знает различия между добром и злом, но сама сущность его есть восхождение – пусть к “самому первому, близкому небу земли”, но никогда не нисхождение».
Цветаевой была чужда тема духовного распада, которая получила прописку в творчестве нового поколения русских литераторов:
«…имморализм парижской школы, как и «чернóты жизни» Достоевского (с которым школа была во многом генетически связана), вовсе не был самодовлеющим, но представлял собою важнейшую часть философско-этической программы «монпарнасцев» и их культурной мифологии. «Нищими духом» назовет Цветаева монпарнасцев в письме Штейгеру».
Отношения со Штейгером были обречены на драматический исход по этой же причине:
«…расхождение Цветаевой и Штейгера имеет не личный, частный, но принципиальный характер. Оно предопределено тем фактом, что устремления Штейгера оказываются вписанными в контекст монпарнасского “культурного кода” и противостоящими глубинным основам мировидения Цветаевой».
Одним из интереснейших исследований, посвященных эмигрантскому периоду творчества Цветаевой, можно считать статью О.Г. Ревзиной «Парижские фельетоны Марины Цветаевой. “Страховка жизни”»:
«В творчестве М. Цветаевой нет других примеров обращения к такому смешанному художественно-публицистическому жанру, каковым является фельетон, но с необычной для нее творческой задачей Цветаева справилась вполне профессионально: перед нами непринужденное, проникнутое иронией повествование о “жизненных случаях” с отчетливо выраженной “позицией”. Парижские фельетоны Цветаевой не представляли бы особого интереса, если бы не три момента. Во-первых, их писал поэт, и поэтическое мышление Цветаевой сообщает текстам семантическую многоплановость, которую фельетон как жанр не предполагает. Во-вторых, “жизненные случаи” – это маленькие сценки из повседневного парижского быта Цветаевой, когда она – жена, мать, домохозяйка – вступает в общение с горожанами и прежде всего с исконными жителями Парижа – с французами. И наконец, в-третьих – то, что было названо позицией: в сюжете, в конфигурации персонажей, в языке, в диалогических структурах “немудрящих” фельетонов явственно проступают коллизия Запад – Россия – Восток и переживание М. Цветаевой этой коллизии».
Автор обнаруживает такую важную в творческом плане ситуацию, что
«”Страховка жизни” – единственное из цветаевских прозаических произведений, в котором нет эксплицитно заявленного авторского “я”. Третьеличная форма маркирует дискурс как художественный, превращая “я” в персонажа и создавая возможность внешней точки зрения. Повествование может быть раскадровано подобно кинематографическому сценарию с тщательно продуманной аранжировкой кадров, и в первом из них обозначены соединенные родством фигуры: “отец, мать и сын”».
Добавим к этому замечанию, что оно оказалось чрезвычайно плодотворным для дальнейшего развития. В сборнике, который готовится к выпуску по итогам цветаевской конференции 2014 года, мы сделали попытку реализовать авторскую идею и пришли к небезынтересным результатам.
О. Г. Ревзина обнаруживает глубину и многоплановость внешне незатейливой «бытовой сценки», которые проявляются, в частности, в образе француза — страхового инспектора:
«…взаимопроницаемость художественного и биографического дискурса окружает приход инспектора комплексом интертекстуальных смыслов (любовь и смерть, страх и надежда), вместе и по отдельности взаимодействующих с непредсказуемостью – непредсказуемым ходом событий. В использованной инспектором семантической тактике уговаривания в качестве основного аргумента выдвигается непредсказуемый случай».
Для него визит в дом русской эмигрантки подтверждает существование иного жизненного подхода, непонятного и незыблемого в собственной правоте. Открыв дверь пришельцу, хозяйка открывает
«две картины мира, два разных мировоззрения («– Русские всегда говорят “нет”», по опыту инспектора)».
При этом русский фатализм вовсе не является прецедентом в мировой истории:
«В западноевропейской культуре тема Судьбы отнюдь не обойдена вниманием – ни в теологии, ни в философии, ни в живописи, ни в словесности».
Более того, при внимательном изучении темы
«Мы приходим к неожиданному выводу: в понимании Судьбы как “таинственной силы” никакого особого различия между русским и западным менталитетом не усматривается».
И рассказ переплавляет обыденную ситуацию во всплеск высокого духовного переживания:
«В “Страховке жизни” так отчаянно переплелись переживания Цветаевой, связанные с ее семьей, чувство социальной униженности и неассимилированности во Франции, которые она разделяла со многими русскими эмигрантами, и некая всечеловечность размышлений о жизни, что в этом “проходном” и тоже как будто случайном парижском фельетоне за какую ниточку ни потяни – открывается новый поворот и какое-то трепетание одиноких дум. История жизни инспектора нужна Цветаевой отнюдь не только для того, чтобы “привить” инспектору “русское” мышление. Ей самой нужен “счастливый случай”, в который она верит и не верит, потому и сердце собеседницы инспектора то бьется “совершенно как у того, летевшего со стройки“, то воскресает, когда в ней звучит голос инспектора, “которым он говорил о матери, той, что выйдет к нему навстречу в Issy-les-Moulineaux”».
Многоплановость повествования определяется и его композиционной особенностью:
«…в “Страховке жизни” устанавливается, в конечном счете, параллелизм и двойничество одного типа родственных отношений: мать – сын, и диалог ведется между русской матерью и французским сыном. Выше уже было сказано о том, что перелом в разговоре наступает, когда мать произносит слово “судьба”. Думается, что настоящая, а не приписываемая специфика русского понимания судьбы определяется тем, что слово “судьба” в русском языке, с одной стороны, синонимично слову “жизнь”, а с другой – таким словам, как “фатум”, “рок” или “фортуна”, то есть случай понимается в этой концептуализации как неустранимая сторона жизни. Этим и определяется “русский нравственный кодекс” по отношению к судьбе, который стремится передать мать инспектору. Прежде всего – понимание жизни как судьбы и судьбы как жизни освобождает от чувства страха».
Параллелизм ситуаций позволяет автору сделать вывод о всечеловеческом характере внешне обыденного случая:
«Любая мать – русская ли, французская, это глубже и выше, чем противопоставление Запада и Востока. По идее она и есть “страховка жизни”. Никого она не страхует и ни от чего не может уберечь. Единственное, что ей дано, – дать жизнь другому».

 Июль 31st, 2016
Июль 31st, 2016  Инна Башкирова
Инна Башкирова
 Опубликовано в рубрике
Опубликовано в рубрике